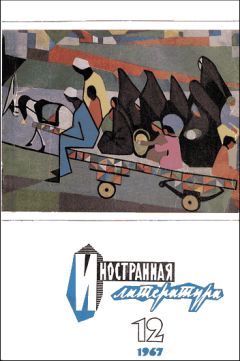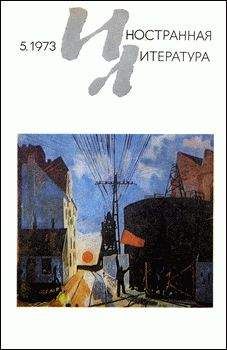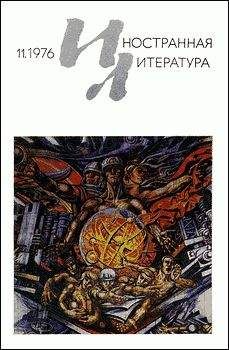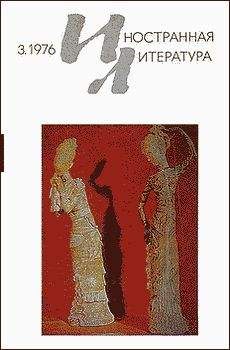Леонардо Шаша - Каждому свое • Американская тетушка
— Да вон он, его уже видно, — но мы ничего не увидели. Через пятнадцать минут пароход уже можно было различить, он постепенно приближался, как будто кто-то цветными карандашами раскрашивал кораблик, нарисованный на бледно-голубой или зеленоватой бумаге.
Когда он приблизился настолько, что стало видно, как машут руками пассажиры, которых было так много, что я удивился, как это они до сих пор не перевернули пароход, мать нетерпеливо засуетилась, замахала рукой, уверяя нас, что сестра, конечно, видит ее, но мы тоже стояли в такой густой толпе, что разглядеть в ней кого-нибудь с борта парохода было невозможно. Пароход подплыл уже совсем близко, стали видны лица пассажиров, чисто выбритые лица американцев, очки в золотой оправе, толстые сигары. С берега и с парохода окликали: Тури, Кали, Пепе, этих самых Тури, Кали и Пепе было небось не меньше сотни на борту парохода и столько же на берегу.
Мать узнала свою сестру, когда та оказалась в десяти шагах от нас. Перешагнув через цепь, мать побежала ей навстречу. Сестры обнялись. Моя тетя оказалась толстухой, на ней был костюм в крупных цветах, золотые очки. Муж тети был высокого роста, с гладким моложавым лицом и седыми волосами, дочка — маленькая, как тетя, но складная и аппетитная, мальчишка — некрасивый, какой-то мрачный и сонный.
Тетя велела мужу заняться багажом, мой отец изъявил желание пойти вместе с ним, но тетя сказала: «Он сам управится», причем сказала таким тоном, будто они недавно поругались, но позднее я увидел, что она всегда так разговаривает с мужем. Моя мать плакала от радости и не могла простить себе, что не узнала сестру в толпе на борту парохода. Моя двоюродная сестра с удивлением смотрела на эти слезы, наверно, на нее они нагоняли скуку.
Когда тетин муж вернулся и тетя заявила, что она хочет жить в лучшей гостинице города, отец сказал, что наша гостиница вполне приличная, но тетя повторила: «В лучшей гостинице, и вы туда тоже переедете», и отец велел шоферу ехать в «Пальме», а мать как-то даже растерялась.
В вестибюле гостиницы тетя повела носом, принюхиваясь, поинтересовалась, как там насчет кондиционированного воздуха, есть ли ванная, душ, розетки для электрической бритвы и радиоприемника, ответы ее вполне удовлетворили, она снова спросила: «Это действительно лучшая?»— и, услышав от моего отца, что там жили Вагнер, кайзер и генерал Паттон, решила, что гостиница ее устраивает.
Мне показалось, что после всех тетиных вопросов служащие гостиницы стали смотреть на нас с насмешкой — на меня, отца и мать: что мы понимали в кондиционированном воздухе и в электрических бритвах? Другое дело наши родственники — они приехали из Америки и знали толк во всех этих вещах, и у них были деньги, чтобы годами жить в такой гостинице. Я чувствовал себя не в своей тарелке.
Мы поднялись наверх, чтобы немного отдохнуть и переодеться, как сказала тетя, но отдыхать не стали, да и переодеваться нам было не во что. Когда мы снова встретились в вестибюле, они были нарядные и отдохнувшие, и мы почувствовали себя усталыми в одежде, пахнувшей поездом и помявшейся в дороге, ведь от нашего города до Палермо почти целый день пути. Тетя начала задавать вопрос за вопросом, казалось, перед ней лежит карта нашего города со всеми улицами и домами, она как бы наудачу тыкала пальцем в какую-нибудь улицу или дом и хотела знать все об их обитателях — о чьей-то жизни и смерти, удачах и несчастьях. Тетины дети и муж молчали. В ресторане я все время чувствовал на себе презрительные взгляды официантов; тетя без конца говорила о бедности и богатстве, о мраке и свете, и мне казалось, что взгляды официантов напоминают мне, что мое место в мрачном бедном городишке, откуда я приехал. Моя двоюродная сестра, быстро посоветовавшись с родителями и братом, заказала что-то официанту, который говорил по-американски; для нас отец заказал спагетти с соусом из помидоров и рыбу. Глядя на свои спагетти, в то время как американцам принесли помидоры, разрезанные пополам и нафаршированные какой-то темной пастой, заливную белую рыбу с завитками масла вокруг, мы почувствовали себя еще более подавленными. Тетин муж подозвал официанта, у которого на белой куртке выделялся черный лоскут с вышитой гроздью лилового винограда, и быстро-быстро с ним заговорил; вскоре официант принес несколько бутылок, показал этикетки, и мой новый дядя сказал:
— Ол райт.
Он выпивал, мой дядя. Зато детям он налил немного — на донышке сыну, полбокала — дочке. Внимательно проследив за тем, как он разливает вино, тетя обрушила на нас длинную речь о своих педагогических взглядах на вино, губную помаду и бой-френда. Из этой сложной речи я понял, что бой-френд это школьный товарищ или живущий по соседству парень, с которым девушка обычно проводит время.
— Если я узнаю, что у нее есть бой-френд, я заберу ее из колледжа и запру дома, — и тетя метнула на дочь подозрительный и грозный взгляд.
Девушка улыбнулась. Моя мать поняла еще меньше, чем раньше; отец объяснил ей, что колледж это университет, а Сиракузы — название американского города, в университете которого учится тетина дочка. Мать посмотрела на племянницу с гордостью и уважением и спросила:
— А на кого она учится?
Снова последовало сложное объяснение, моего отца вдруг осенило, и он заключил:
— На врача.
А про сына тетя сказала, что он лофач[25], в хайскулу[26] ему, наверно, не попасть, ну да, мол, ничего страшного, если разобраться, займется стором.
Из того, что нам принесли, я почти ни к чему не притронулся, только вилкой в тарелке ковырял, а есть не ел, даже бананы не съел, которые я так любил.
Моя мать предложила выехать из Палермо на следующий день, но тетя не согласилась, сказала, что ей хочется посмотреть город, она помнила, каким он был в девятнадцатом году, когда она уезжала в Америку, теперь ей казалось, что он изменился, стал красивым, не таким, как американские города, но все равно красивым. Особенно поразило ее здание почтамта. По пути в Палермо пароход останавливался в Гибралтаре, Барселоне и Генуе. В Барселоне им запомнились торговцы фруктами, в Гибралтаре — смена караула, в Генуе они побывали на кладбище и теперь говорили, что ничего более прекрасного никогда в жизни не видели, даже девушка утверждала, что оно очень красивое. Им захотелось взглянуть на палермское кладбище, оно их разочаровало. Карабинер, стоявший в будке при входе в королевский дворец, отнял у нас больше времени, чем капелла во дворце, аэродром Боккадифалько — больше, чем монастырь в Монреале; лично я бы по монастырю целый день ходил. С видовой площадки недалеко от монастыря отец показал мне дорогу, по которой Гарибальди подошел к Палермо, вернее, он начертил ее в воздухе, поскольку над городом и окрестностями стоял легкий туман и дороги не было видно. В школе я читал «Записки» Аббы, книга мне очень нравилась. Тетя заявила, что Гарибальди был коммунистом, отец принялся объяснять ей, что это не так, просто коммунисты использовали имя Гарибальди в предвыборной кампании. Тетя в ответ отрезала, что это все равно.
Мы проболтались в Палермо пять или шесть дней, я как бы вижу нас всех на палермской улице, словно передо мной фотография, снятая при слишком ярком солнце и потому темная: вижу тетю, разрезающую воздух, будто нос катера — волны, мать, усталую и тихую, отца, несколько оживившегося по случаю неожиданных каникул, тетиного мужа, вышагивающего, точно лунатик, моего двоюродного братца с унылой физиономией, двоюродную сестру, которая не прочь подружиться со мной и непрерывно сравнивает что-то с тем, что она видела в Америке.
Наконец эта живописная группа очутилась в купе, в первом классе, где было жарко, как в духовке; поезд вез нас в глубь Сицилии, в наш город. Тетя болтала без умолку, я сидел рядом с моей двоюродной сестрой, от нее пахло потом и духами, я думал о ней с нежностью и с этими смутными мыслями вскоре заснул.
Отец сказал:
— Через час будем дома.
Было уже темно, огни городов, когда я смотрел на остановках в окно, выглядели как усыпанные искусственными бриллиантами пряжки на черном одеянии; мы стояли у окна, и моя двоюродная сестра поглаживала меня по затылку, и я готов был замурлыкать, выразить на кошачьем языке все нараставшую во мне любовь.
Наш городок неожиданно вынырнул из ночи — редкие ряды фонарей между белыми домами, я бы его и не узнал, если бы отец не начал вытаскивать в коридор чемоданы; это был бедный городишко, я подумал, что моей двоюродной сестре он не понравится, и мне стало как-то неловко за него.
Глядя со станции на приземистый городок, улицы которого, обозначенные фонарями, делали его похожим на раскрытый веер, тетя сказала:
— А он не меняется. — И мне послышалось в ее словах возмущение, разочарование; возможно, мне это только показалось — после того, как мать, заступаясь за наш город, принялась уверять сестру, что он изменился, что в нем появилось электричество, новые дома и целые улицы. Нас встречал дядя, он позаботился о подводе для вещей и о линейке для нас; глядя на чемоданы, которые извозчик уже погрузил на подводу, дядя спросил: